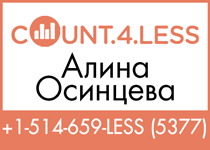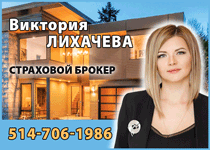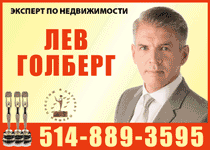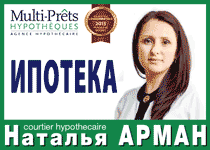Во многом боярыню Феодосию Морозову, верную сподвижницу лидера старообрядцев протопопа Аввакума помнят благодаря хрестоматийному полотну великого художника Василия Сурикова. Однако реальный облик этой выдающейся женщины далек от представления о ней. Например, в момент ареста, который запечатлен на картине, она была еще совсем молодой женщиной. В жизни любой страны есть свои вехи. Одним из ключевых пунктов русской истории был Раскол. Из деятелей Раскола в памяти осталось немного имен: царь Алексей Михайлович и патриарх Никон — с одной стороны, протопоп Аввакум и боярыня Морозова — из противоположного лагеря.
Боярыня Феодосия Прокопьевна Морозова относится к числу немногих женщин, оставивших свой след в летописи русской истории. Тем более редких в допетровский период, когда женщины по «домостроевскому» обычаю сидели по теремам, чем напоминали более насельниц магометанских сералей, нежели жительниц европейских «вольных городов». Первоначально картина Сурикова называлась «Поругание боярыни Морозовой» и репродукции с нее нередко встречаются в старообрядческих храмах, но только не в иконостасе. Художник допустил ряд исторических неточностей. Самая главная из них — Феодосия на момент ареста была еще молодой женщиной, не достигшей сорокалетнего возраста. Однако воздействие суриковского шедевра на зрителя с лихвой искупает любые мелкие несуразности.
Перейдем от искусства к фактам, известных историкам о жизни боярыни Морозовой. Старшую дочь московского дворянина Прокопия Федоровича Соковнина, родившуюся 21 мая 1632 года, нарекли в честь святой преподобномученицы Феодосии Тирской. Предки Соковниных происходили из Германии, точнее от одного из древнейших родов европейского рыцарства — Мейендорфов. В 1200 году один из этого рода получил от князя-епископа Рижского в лен замок Икскюль (ныне Ишкиле в Латвии). В 1545 году барон Иоганн фон Икскюль выехал из Ливонии к царю Иоанну Васильевичу Грозному и принял крещение под именем Федора Ивановича. Его сын Василий, по прозванию «Соковня» (существует множество версий относительно этого прозвища), стал родоначальником русских Соковниных. В 1662 году Глеб Иванович Морозов скончался. Свое состояние он оставил 12-летнему сыну Ивану Глебовичу, но фактически им распоряжалась молодая вдова. В том же году умер и отец Феодосии Прокопьевны.
В 30 лет боярыня Морозова осталась вдовой и сиротой. Ее биограф, Кирилл Кожурин, свидетельствует: «Палаты боярыни Морозовой были первыми в Москве, ее любили и уважали при царском дворе, и сам царь Алексей Михайлович отличал ее перед другими боярынями. Она именовалась «кравчей царской державы» и была, по словам Аввакума, «в четвертых бояронях». Богатство ее было сказочно. Тот же Аввакум писал о ней: «Жена ты была боярская, Глеба Ивановича Морозова, вдова честная, вверху чина царева, близ царицы. Дома твоего тебе служащих было человек с триста, у тебя же было крестьян 8000, имения в дому твоем на 200 000, или на полтретьи (250 000 — Ред.) было …
Другов и сродников в Москве множество много. Ездила к ним на колеснице, еже есть в корете драгой, и устроенной мусиею и сребром, и аргамаки многи».И вот эта молодая, богатая женщина, представительница самых видных московский родов, после встречи с протопопом Аввакумом становится духовной дочерью огнепального протопопа. Вслед за ней духовной дочерью Аввакума стала и ее младшая сестра Евдокия, княгиня Урусова. Когда Аввакума сослали на Мезень именно дом боярыни Морозовой превратился в оплот оппозиции никоновским реформам.
Процитируем современного историка П. В. Седова: «В истории боярыни Морозовой проявились не только уникальные черты ее личности и противостояние сторонников и противников церковной реформы, но и соперничество дворцовых группировок в борьбе за власть и их имущественные интересы. Вряд ли можно разделить религиозные и мирские мотивы в поведении исторической боярыни Морозовой, поскольку синкретизм средневековой культуры не подразумевал существования одного без другого».
Царь Алексей Михайлович подослал к боярыне окольничего Ртищева, «шиша антихристова», который соблазнил Феодосию Прокопьевну перекрестится тремя перстами «и тогда отдаст царь холопей и вотчины твоя». Морозова смалодушничала, перекрестилась, царь вернул ранее отобранные у нее вотчины и якобы сразу же после своего отступничества она занемогла: «дни с три бысть вне ума и расслабленна». В Житии Аввакума говорится, что боярыня Морозова «оздравела», когда «перекрестилась истинным святым сложением». В Житии боярыни Морозовой возвращение вотчин объясняется заступничеством царицы Марии Ильиничны, неизменно благоволившей родственнице.Кирилл Кожурин пишет, что данный факт подтверждают исторические документы. Царским указом от 1 октября 1666 года отнятые вотчины Морозовой были возвращены по прошению царицы и в связи с рождением царевича Иоанна Алексеевича (будущего царя Иоанна V).
Не стоит забывать, что свой выбор боярыня Морозова сделала еще и вот по какой причине. «Вдова по понятиям и убеждениям века уже носила в своем положении смысл монахини, — писал историк-археолог Иван Егорович Забелин (1820-1908). — Честное вдовство само собою уже приравнивалось к обету иночества. Поэтому вся жизнь вдовы со всею ее обстановкою естественным и незаметным путем преобразовывалась в жизнь монастырскую. Не первая и не последняя была Феодосия Прокопьевна, устроившая свой дом по-монастырски. Таков был господствующий идеал для женской личности, свободной от супружества».
В глазах народа боярыня навеки осталась с ореолом мученицы. Несмотря на то, что царь Алексей Михайлович, боясь, чтобы этого не произошло, приказал уморить ее и сестру голодом в боровской яме и тайком, без отпевания, зарыть внутри острога. И после смерти своей «поединщицы», царь с прозвищем Тишайший, приказал как можно дольше скрывать факт смерти боярыни Морозовой. Считается, Феодосия Прокопьевна почила в Бозе в ночь с 1 на 2 ноября 1675 года. Страстотерпице Морозовой шел 44-й год.
 Деловой Монреаль — Новости Канады и Монреаля Монреаль, Квебек, Канада: новости, бизнес-каталог, реклама, объявления
Деловой Монреаль — Новости Канады и Монреаля Монреаль, Квебек, Канада: новости, бизнес-каталог, реклама, объявления